Есть ли жизнь после "Щегла"? Как устроена жизнь переводчика романов Донны Тартт
В ноябре 2014 года был издан "Щегол" Донны Тартт в русском переводе Анастасии Завозовой. А к концу ноября 2015 года издательство Corpus выпустило "Маленького друга" (второй по счету из трех романов американской писательницы), и снова в переводе Завозовой. В интервью COLTA.RU переводчик рассказывает, зачем нужно было заново переводить на русский "Маленького друга", как устроен Нью-Йорк у Тартт, для чего нужно искажение времени, каково это — переводить по толстому роману каждый год и трудно ли работать с сюжетом, действие которого происходит в настоящем времени.
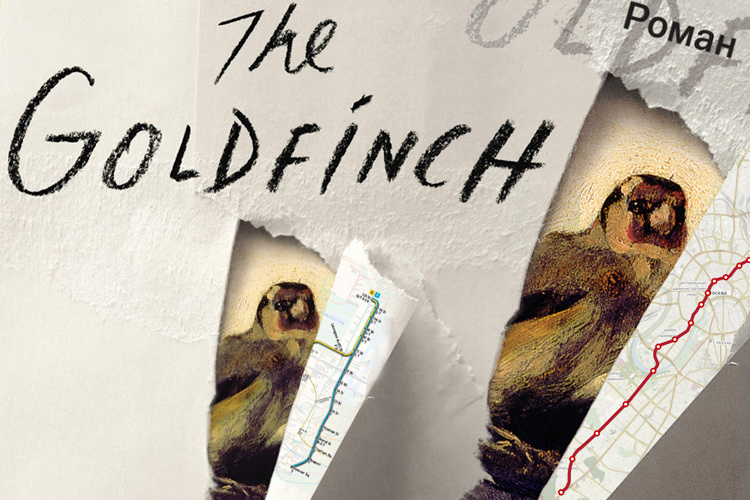
— Можно мы начнем сразу о современности? Я высчитала, когда происходит развязка "Щегла": в финале книги герои оказываются ровно в декабре 2015 года.
— Почему вы так решили? У Тартт время нарушено, и как реальная хронологическая подпорка время ей, в общем-то, не важно. В одном из интервью, которые Тартт давала в связи с выходом "Щегла" в 2013 году, — кажется, это было интервью Лоре Миллер для "Салона" — она говорила о том, что все происходит в некой альтернативной реальности, потому что в настоящем-то не было никакого взрыва в музее и вообще ничего этого не было, поэтому ей это настоящее, в общем-то, и не нужно. Ей нужно ее собственное романное время.
— Но в романе есть одна точная дата: сотрудница американского посольства просит Тео перезвонить в понедельник, 28 декабря, потому что нынче сочельник и они уже закрываются. Но 28 декабря выпадает на понедельник как раз в 2015 году! (В прошлый раз это был 2009 год — но это слишком рано…)
— Но ведь можно заглянуть еще и в будущее. Понедельником 28 декабря будет в 2020 году. В том интервью, о котором я говорила, Тартт тоже называет дату — я проверила — она говорит: "Разумеется, ведь восемь лет назад Мет никто не взрывал". То есть сама Тартт определяет дату взрыва 2005 годом. На тот момент Тео 13 лет, в конце романа же ему лет 27, то есть к 2005-му надо прибавить где-то четырнадцать.
— Это может быть две тысячи двадцатый!
— Да, но мне в целом вообще нравится идея параллельно текущего времени, поэтому, как мне кажется, неважно, когда происходит развязка, — это как день Блума, который благодаря читателям (с кем-то) случается каждый год.
— Речь как раз о читателях: можно полететь в Амстердам, добраться до Гааги, зайти в музей Маурицхёйс, глядеть на "Щегла" и думать, что вот это вот все, что в книжке, происходит ровно сейчас. Не в прошлом, не в будущем, а ровно сейчас. Поразительное ощущение для читателя — но для переводчика? Каково это: переводить абсолютно современный роман? Когда понимаешь, что все понимают по-английски, бывали в этом музее в Нью-Йорке и в том казино в Лас-Вегасе, держат в руках эти айфоны, разбираются в антиквариате или в наркотиках, — значит, переводчику нельзя вообще ошибаться?
— Современный роман — это скорее облегчение для переводчика, тут налажать все-таки в разы сложнее. Когда переводишь роман несовременный, даже такой, как "Маленький друг" — там действие происходит в 70-х, — все время нужно ловить себя за руку, чтобы не употребить какое-то очень современное слово. Было, кстати, очень смешно, когда у меня дети в "Маленьком друге" — главные герои, такая малоприятная выдумщица Гарриет и по уши влюбленный в нее мальчик Хили, — обсуждали какие-то страшилки, и Хили говорит: а вот, мол, по телику показывали передачу, как одна тетка себе в могилу телефон взяла, чтобы ей туда после смерти можно было позвонить. А у меня первая мысль — да ладно, у телефона же батарейка сядет! И только секунд через тридцать дошло, что телефон-то проводной, стационарный, хоть обзвонись. А если уж приходится что-то совсем давнее переводить, то можно невзначай ввернуть Джейн Остен какого-нибудь модернизма.
— Вы этим развлекаетесь в работе?
— Когда я переводила роман-пюрешку Сета Грэм-Смита, который он состряпал из текста "Гордости и предубеждения" и натурально кишонков с убоинкой, все время боялась подпустить XXI века в эпоху регентства. Оно, конечно, понятно, что там даже и можно было, но мне хотелось, чтобы контраст между идеальным, смешным и не по-современному чистым текстом Остен и ошметками грэм-смитовских поделок из алфавита был очень заметен, поэтому приходилось себя проверять. Хорошо помогали письма Пушкина. Пушкин, кстати, где-то как Джейн Остен — и я не говорю о том, что они оба проветрили свои родные языки, освободив их от налипшего Тредиаковского и условной Марии Эджворт. У них у обоих замечательные письма остались, очень настоящие, какие люди действительно пишут друзьям и знакомым без оглядки на славу и учебники литературы. Джейн Остен в письмах приятнейшим образом сплетничала, обсуждала купленный муслинчик и фасоны шляпок, Пушкин же — ну все помнят про Жуковского, который срет гекзаметрами…
— А Баратынский ржет и бьется!
— Да, явно не думал человек, как половчее в золотую рамку встать, а для переводчика нет ничего лучше такой настоящей весточки из прошлого.
Современный роман переводить вообще хорошо — Донна Тартт в "Щегле" так отлично Нью-Йорк описала, что когда я туда попала впервые, как раз в 2014 году, то без труда прошлась по маршруту, которым Тео добирался домой из взорванного музея, и отыскала дом Хоби. Тут нужно понимать, что у меня идеальный топографический кретинизм и вообще очень плохо с ощущением пространства, я карту распечатываю, чтобы "Ритц-Карлтон" найти, а он ведь через дорогу от моей работы. Но Тартт создала какую-то эмоциональную карту Нью-Йорка: ворота Центрального парка, зашнурованные железом двери, топиарии в кадках — и по этим меткам ориентироваться оказалось проще. Тартт вообще вся про эмоции — я читала много рецензий, где важные, серьезные люди писали: ну, мол, что это такое — вот здесь нестыковка, вот тут многовато, вот тут бы докрутить, а вот здесь бы отрезать, ну прямо как в ресторан зашли: а мне безглютеновый роман, пожалуйста, — но Тартт вообще не про логику и структуру, она цепляет читателя за душевные внутренности — как те шедевры, о которых в конце книги рассуждает Хоби ("Эй, малый, эй, да, я тебе говорю"), — и хоть ты что сделай, а она тебя или поймала на крючок, на дудочку, если хочешь, или нет.
— Я помню это редкое чувство, когда как будто ныряешь в книгу. А потом выныриваешь и некоторое время тратишь, чтобы включиться в свою реальность, — озираешься еще: а где же Нью-Йорк?..
— Да, именно — Тартт в одном из интервью, говоря о своей любви к Стивенсону и Диккенсу, назвала это чувство gleeful, greedy reading — счастливым, жадным чтением, и, мне кажется, к романам самой Тартт это очень применимо. У нее зашкаливает осязательность текста, настоящесть созданного ею мира — и в этом ее огромнейший талант.
— Вы же могли переписываться с Тартт и получать от нее рекомендации по переводу?
— Это тоже очень удобно и скорее облегчает перевод. Плохо, когда автор умер и телефона себе в могилу не провел; вот тогда очень трудно приходится.
— Вы в Facebook просили читателей сообщать про опечатки или ошибки в тексте — вам это пригодилось для того, чтобы допечатать тираж? Что-то ценное прислали?
— Да, штук десять-пятнадцать опечаток мы таким образом выловили, люди читали очень внимательно. Но это были именно опечатки, какие-то пропущенные глупости вроде "Дня мертвецов" вместо "Дня мертвых", что-то такое.
— Вы ведь очень торопились? Я понимаю, что работа происходит немного иначе изнутри, но со стороны это выглядит так: в ноябре 2014 года выходит "Щегол" на 600 страниц, а в ноябре 2015 года в магазинах появляется "Маленький друг" в вашем же переводе. Крутой темп.
— Ну, в "Щегле" было 800 страниц, и закончила я его переводить в конце июля 2014 года, а уже в конце августа знала, что будет новый перевод "Маленького друга", и начала его потихоньку делать. "Друг" объемом поменьше, там 630 страниц русского текста, времени у меня на него было немножко побольше, поэтому темп не крутой, темп самый обычный.
— И при этом вы работаете каждый день в редакции, в Condé Nast, где строгие правила и график.
— Моя работа оказалась скорее в плюс, чем в минус. Я понимаю, что в коллективном бессознательном живет образ переводчика художественной литературы как этакого вольного художника, который не приемлет никаких границ, творит себе где хочет, встает в первом часу пополудни, зябко кутаясь в шаль, долго смотрит в окно или в Фейсбук на проходящую мимо жизнь, а потом ближе к полуночи хватает себя за вдохновение и пишет сразу десять авторских листов. А от графиков и планов у него изжога. Но вот есть совершенно невероятная писательница Ханья Янагихара, которая недавно написала такой американский роман-сенсацию "A Little Life". Он собрал все номинации и вообще все восторженные отзывы критиков, даже тех, которые на завтрак вместо вареного яичка облупливают Джонатана Франзена. И вот она долгое время проработала в Condé Nast Traveller, и ее об этом тоже постоянно спрашивают — мол, да неужели вы творите да еще и в офис ходите? На что она всегда очень спокойно отвечает, что работа в CNT ее научила многому: соблюдать сроки, не ждать музу, внутренне организовываться и сдавать текст вовремя. Так вот для переводчика это вообще самое важное. Особенно про сдавать текст вовремя.
— Это вообще для всех работающих с текстами — самое важное качество.
— И нигде, кроме как в ежемесячном журнале со строгим понедельным графиком сдачи, ты этому волшебному умению не научишься. Янагихара так свой бестселлер и написала — приходила с работы в девять вечера и в течение полутора лет каждый день писала до часу ночи. В выходные — по девять часов. Я переводила примерно по такому же графику и могу сказать, что это работает. Конечно, всегда хочется больше времени. Конечно, хотелось бы "Щегла" переводить года два, а "Маленького друга" можно было бы точить еще лет десять, как раз до следующего романа Тартт, потому что "Друг" для перевода очень сложный и медленный, там много разных голосов, за которые попеременно приходится играть. Но есть издательские сроки и законы, поэтому выключаешь вот эту внутреннюю теплую шаль, садишься и переводишь. Конечно, потом приходилось и огромные куски вымарывать и переписывать заново, и два раза вслух оба романа прочесть пришлось — так ошибки заметнее, но все равно времени всегда будет не хватать, и это надо принять как часть работы.
— А каково это: днями воспевать пудреницы, а потом приходить домой и вот это вот "… поэтому-то все было обставлено с такой пышностью, с такой театральностью, с мрачным ритуальным настроем, словно Китси была какой-нибудь позабытой шумерской царевной…"
— Ну, про пудреницы — это вы очень вольно, но я понимаю, что в том же коллективном бессознательном где-то есть и образ глянцевого работника, который весь такой на стиле и фэшене, высунув кончик языка, пишет какие-нибудь там хве-и-хви и ле-и-ли и как похудеть к воскресенью. Так вот, он живет только в этом бессознательном, больше его нигде нет.
— Нам не поверят.
— Ну еще бы, я и сама охотнее бы верила в то, что каждый день хожу на работу, чтобы там быть просто красивой. Обязательно надо же во что-то такое верить. Можно в инопланетян, а можно — в глянцевого работника. Второе, конечно, веселее. Но я сейчас объясню, как оно все на самом деле. Я вот очень люблю читать книги. И очень люблю производственный жанр. Это когда в книжках очень подробно рассказывается про изнанку какого-то дела: самые яркие примеры — это, конечно, "Аэропорт" Хейли или какой-нибудь относительно свежий "Шелкопряд" Роулинг про книгоиздание. Даже у Тартт в "Щегле" есть элементы такой производственности: работа по дереву, подделки, аукционы, продажа антиквариата. Так вот, глянец — такая же увлекательная производственность. Allure, где я сейчас работаю, — это практически роман: каждый месяц приходится разбираться в чем-то медицинском, химическом или биологическом, и это очень увлекательно. Конечно, было бы круто, если бы я могла прийти на работу, скинуть лубутены и написать: "Кстати, тут есть такая пудреничка, просто вау, парниша, блеск!" — но на самом деле приходится разбираться в том, что такое микроинкапсуляция, зачем парфюмам этилмальтол и как бороться с людьми, которые в 2015 году по-прежнему думают, что зимой нельзя мазать лицо увлажняющим кремом, потому что рожа тут же замерзнет и треснет.
— А что, не замерзнет?!
— Нет. А вы говорите — пудреницы… Это ж дико интересно.
— Но со стороны этой работы никто не видит. Зато вот, пожалуйста, современная столичная девица, которая не ходит в кино, не болтается в парках с лонгбордом, не выпивает коктейли на крыше и не ловит волну на серф-споте — она просто сидит и переводит. Это единственный вариант: сядь и сделай?..
— Yep, как говорят американцы. Прямо вот сядь и сделай. Это, наверное, не очень можно понять, но мне кажется, что все очень просто. Кто-то после работы идет в спортзал, например, а я — переводить, потому что мне это занятие приносит ощутимую физическую радость.
— По специальности вы переводчик скандинавской литературы: вы с этим работаете сейчас? Или это не слишком актуально для нынешних издательств?
— По специальности я преподаватель датского языка и художественной литературы, переводчик художественной литературы — это дополнительная специальность. Сейчас с этим не работаю, разве что перевела два сезона сериала "Мост", а вот с книжками не сложилось, но очень хочется, конечно. Датский язык для меня безумно прекрасен, хоть про него и говорят, что он похож на ларингит. Но он как исландская певица Бьорк. Вот красивая Бьорк или нет? Да никто про нее в таких категориях не думает, потому что она космос. Вот и датский язык такой же.
— А если переводить сейчас с датского — то что?
— Даже не знаю, честно сказать. Я пробежалась недавно по датскому книжному магазину. Три четверти — переводная проза, очень много шведов, но прямо вот датского и интересного — такого, чтобы и на экспорт можно было вывезти, — мало. Ну, есть относительно свежий роман Питера Хёга, ну вот Сиссель Йо-Газан написала второй роман, Карстен Йенсен — двадцатый, а Пак Дамсгорд быстренько состряпала что-то актуальное о Сирии, но в целом у меня от современной датской литературы ощущение какой-то — временной, я надеюсь — удивительной замкнутости на себя. Они вот уже лет двадцать пережевывают в литературе обрушившуюся на них инородную социальную ситуацию, когда жили-жили датчане, а потом вдруг пришлось им тоже становиться мультинациональным обществом и как-то двигаться, принимать в свой круг каких-то других людей. (У датских социологов, имен сейчас с ходу точно не назову, есть такое представление типичного датского общества как круга людей — сидят люди кружком, приятно беседуют, все друг к другу лицом, но если ты стоишь у них за спиной, то в круг тебя никто не пустит и к тебе не повернется.)
— И про это целая литература?
— И у них много-много такой литературы, где они всю вот эту новизну стараются к себе в кружок впустить. Вдруг кто-нибудь обнаружит, что в центре Копенгагена есть криминальное гетто или что сосед у человека — наркоман, и это прямо событие, об этом надо писать, думать. У писателя Йена Сёнегорда есть такой старенький рассказ — "Мушки" называется, там про мужика и его соседку. Мужик видит, что у соседки какие-то проблемы, но она его раздражает своим присутствием, потому что как-то надо на нее реагировать, а она ему только мешает, музыку включает, с мужиками ссорится, а потом вдруг затихает — и он такой: ну слава богу. А потом у него в квартире заводятся мушки, такие, как в мусоре бывают. А потом выясняется, что эта соседка под ним в квартире уже полгода как разлагается. И вот этому рассказу — ну лет десять, если не больше, а вот это ощущение в литературе, как людей накрыло соседями, как-то, на мой взгляд, до сих пор отчетливо сохраняется.
— Пользуясь тем, что мы немного знакомы и что я видела у вас в ФБ фотографию вашей квартиры, хочу спросить про тот гибрид кровати со стеллажом. То есть вы правда спите на книжной полке?
— Да, правда. У меня очень маленькая квартира и очень много книг, поэтому мне очень повезло, что удалось купить такую кровать, иначе бы просто пришлось спать на книжной полке, например. Было бы не так удобно.
— А вам не хотелось сделать перерыв после "Щегла"? Ну, уехать года на три на Бали?
— Не, у меня ипотека.
На самом деле я как-то об этом не задумывалась. После "Щегла", наверное, не хотелось — он был очень душевноподъемный, что ли. Там очень много любви внутри самого романа. Тартт в каком-то интервью сказала, что вот читатель получает удовольствие от текста на одном уровне, а писатель, когда пишет книгу, спускается еще на один уровень глубже. Так вот, под всеми этими уровнями удовольствия есть третий — и он переводческий. И вот у Тартт на этом уровне из романа откликается столько любви, что это работает как вечная батарейка — никакой усталости, одно золотое искусство и покой, весь роман — несмотря на наркотические трипы, мрачный Амстердам и смерти — он весь как мастерская Хоби, как палуба "Марии Селесты", сплошной 1835 год, лучи света на деревянных половицах и никакого медийного шума.
— Все, кому я целый год нахваливаю ваш перевод "Щегла", поделились на две части: одни не прочли, а другие каждый день спрашивают, что еще теперь читать и есть ли жизнь после "Щегла". Как хорошо, что вы заново перевели "Маленького друга"!
— Вот с "Маленьким другом" как раз хотелось передохнуть, да. Он многоголосый, очень узенький и тесный, там каждый герой сидит себе, запертый в собственном мирке, и каждый мирок наполовину состоит из снов, придуманных сюжетов, метамфетамина и убойных транквилизаторов. Сестра Гарриет, Эллисон, постоянно спит и не знает, где она и что она. Гарриет, девочка, воспитанная книжным шкафом, живет в мире, придуманном тетками. Мать в отключке после десяти лет транквилизаторов. Отец в отъезде. Кертис — умственно отсталый. Юджин — проповедник. Дэнни и Фариш торгуют наркотиками, но чаще едят их сами. Пембертон бесцельно колесит по городу. У их жизни нет никакого внятного сюжета, никакой любви, одно мыканье героев по замкнутому пространству и отдельные попытки навоображать себе настоящую жизнь. Дэнни хочет уехать, тетки хотят уехать, Гарриет хочет найти убийцу брата, потому как боится, что у нее нет никакой цели в жизни, и решает, что вот тогда и такая цель — игрушечная и очень книжная — подойдет. И вот все это — несмотря на то что на читательском уровне роман движется очень-очень быстро, там постоянно вроде бы что-то происходит и кто-то куда-то по сюжету движется — на переводческом уровне раскручивается крайне медленно, путаются голоса, чужие сны, приходы и попытки запихнуть мир в книжку, а это, конечно, изматывает.
— А "Тайную историю" есть планы переводить?
— Нет, ее очень хорошо перевели Наталья Ленцман и Денис Бородкин, в повторном переводе нет надобности. Это "Маленького друга" пришлось заново, потому что в первом переводе с оригинальным текстом обошлись достаточно вольно и в издательстве "Корпус" решили восстановить справедливость.
— То есть у вас есть лет десять до следующего романа?
— Да, я думаю, что у Тартт такой производственный цикл. Она давно еще сказала, что у нее внутреннего материала где-то книг на пять; вот и посчитайте.


